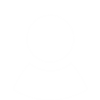В России стремительно растёт уровень семейного насилия, а полномасштабная война только усугубила ситуацию. При этом власти активно пропагандируют "традиционные ценности" — призывают студенток рожать, делают ставку на семью и материнство, подменяя реальную защиту женщин лозунгами. Что стоит за этим противоречием? Как изменилась жизнь российских женщин после вторжения в Украину и почему положение коренных народов во многом отражает те же проблемы? Об этом "Idel.Реалии" поговорили с гендерной исследовательницей Эллой Россман.
Элла Россман — историкесса и гендерная исследовательница, занимается женской и гендерной историей СССР и историей советского феминизма, защитила PhD в Университетском колледже Лондона и преподавала там же.
Публиковала колонки о гендерных исследованиях, феминизме и истории в "Медузе", "Новой газете", The Moscow Times, Wonderzine, Forbes Women, Riddle, OpenDemocracy, LeftEast и других.
— Период правления Владимира Путина можно охарактеризовать как период продвижения дискурса о "традиционных ценностях". Как продвижение этого нарратива влияет на ситуацию с семейно-бытовым насилием и с правами женщин в целом?
— Мне кажется, о проблеме продвижения "традиционных ценностей" на государственном уровне нужно говорить не только в связке с семейно-бытовым насилием и правами женщин. Мне кажется, тут можно говорить и более комплексно. Вообще, более комплексно говорить о том, как это меняет всю российскую гендерную систему.
У нас есть гендер, гендерный аспект существования общества, и в современных обществах так сложилось, что этот аспект играет огромную роль. Есть множество исследований. Какой-нибудь социолог Ирвинг Гофман (американский социолог канадского происхождения, представитель "второго поколения" Чикагской школы в социологии; 73-й президент Американской социологической ассоциации — "Idel.Реалии") скажет, что гендер — это вообще первая такая вещь, по которой мы идентифицируем человека в коммуникации, составляем о нем какое-то впечатление, чтобы в дальнейшем с ним как-то коммуницировать, разговаривать.
Гендер — это буквально то, с чем нас встречают, когда мы появляемся на свет. Когда мы рождаемся, первое, что слышим от людей, окружающих нас, — это мальчик или это девочка. Это огромный кусок нашей современной жизни.
И, кстати, гендерные исследования, которые у многих вызывают сильную головную боль, вокруг которых много всякой мифологии, — это сфера, которая занимается этим аспектом жизни, пытается разработать какой-то критический взгляд на наши бытовые представления об этих вопросах.
Россия с "традиционными ценностями" пытается повернуть всю эту сторону нашей жизни, весь это огромный пласт социальных отношений в сторону какой-то своей новопридуманной традиции. Конечно, "традиционных ценностей" не существует. То, что даже отдельные чиновники понимают под традициями, может сильно различаться. И там есть разные наслоения всяких разных идеологий, которые они складывают, скидывают в эту историю про "традиционные ценности".
Часто говорят, что "традиционные ценности" — это про женщин, про насилие в семье. Моя же точка зрения заключается в том, что это еще и про мужчин, про ЛГБТ, про трансгендерных людей, это про огромное количество разных социальных групп, на которые эта ситуация будет влиять по-разному, но она будет влиять практически на всех.
И вот они пытаются сделать такую систему, при которой будет очень жесткая поляризация между мужчинами и женщинами. Знаете, часто обсуждают какую-нибудь политику "леваков" в Америке или Европе, говорят, что они устраивают гендерные войны. Кто реально устраивает гендерные войны — это Владимир Путин.
Его идея "традиционных ценностей" состоит в следующем: есть мужчины, есть женщины, эти два черно-белых полюса резко противопоставлены, друг другу противостоят, занимаются совершенно разными вещами по жизни, их идеалы совершенно различаются, никак не должны пересекаться. Мужчины не должны быть феминизированы, женщины не должны быть маскулинизированы. У них в семье абсолютно разные роли, у них в обществе абсолютно разные роли и они как будто находятся в совершенно двух разных плоскостях. Есть вот такая узкая норма — что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной в этой системе, которую ни в коем случае нельзя нарушать. Вариативности она не предполагает и все, что в эту норму не укладывается, из этой социальной жизни должно исключаться.
Вот, в принципе, более-менее то общее, что можно найти у разных спикеров, в том числе у Владимира Путина, по вопросам "традиционных ценностей". В остальном больше различий, потому что трактуется все это очень по-разному.
— С начала учебного года Соцфонд начал выплачивать студенткам пособия по беременности и родам. Мы также видели много новостей из разных регионов, когда региональные власти инициируют подобные вещи. С другой стороны, звучат призывы ориентировать девушек на домашнее хозяйство, как будто карьера и даже образование им не нужны. Как, на ваш взгляд, трансформируется образ женщины в публичной риторике современной России?
— Мне кажется, ситуация с выплатами беременным школьницам — это как раз очень классный случай, чтобы поговорить о том, какие разные риторики сходятся в представлении о традиционных ценностях, продвигаемых на уровне государства. Потому что, вообще-то, это реально традиционная ценность: и в Советском Союзе, и в современной России на уровне общества более-менее консенсусное представление о том, что девочка школу-то должна закончить, что не надо беременеть на уровне 8, 9, 10, 11 классов, что эта ситуация экстремальная, исключительная и что это не нужно все-таки поощрять.
На самом деле риторика по этому вопросу менялась. В сталинское время, понятно, об этом вообще нельзя было говорить; в хрущевское время, в оттепель, начали говорить о том, что это, конечно, ужасная ситуация, если девочка беременна, но все-таки обществу ей надо как-то помочь, раз уж так получилось.
В 1970-е годы вышел фильм, который эту дискуссию тоже очень сильно подтолкнул — "Школьный вальс" (художественный фильм "Школьный вальс" режиссера Павла Любимова вышел на экраны в 1978 году, съёмки проходили в 1977-м. Премьера фильма вызвала споры из-за остросоциальной темы, касающейся подростковой беременности, а также потому, что он вызвал бурную реакцию у зрителей и кинокритиков — "Idel.Реалии"). Наверное, все, кто постарше, помнят его. Беременная 11-классница, точнее уже выпускница, очень трагичная история.
Но в целом идея о том, чтобы школьницы беременели, — очень чуждая российскому обществу. То, что внезапно эту идею одни продвигают, а другие осуждают, — по-моему, Нина Останина (председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей с 12 октября 2021 года. Депутат Государственной Думы II—V, VIII созывов, член КПРФ — "Idel.Реалии") вообще очень резко высказывалась против поощрения школьниц к тому, чтобы они рожали детей уже в этом возрасте — показывает, что ни у кого нет четкого представления о "традиционных ценностях", о том, какая должна быть ситуация по гендеру в России.
И все пытаются кто во что горазд. Кто-то воспринимает это прямолинейно — традиционное, наверное, должно быть как в XVII веке: в 14 лет заводишь ребенка. Кто-то считает, что должно быть как в Советском Союзе, вот это наша традиция, вот это традиционное. У нас есть целый пласт государственных спикеров типа той же Останиной или Матвиенко, которая тоже иногда высказывается в этом ключе. Для них "традиционное" — это чисто советская гендерная система, чисто советские гендерные отношения. И они даже одновременно включают элементы социалистического освобождения женщины в "традиционные ценности". Это выглядит очень странно и дико. Но вот так оно существует.
В общем, ситуация с этими школьницами, мне кажется, просто показывает, что никто не знает, что такое "традиционные ценности" — и все пытаются фантазировать, придумывать и всеми возможными способами решать демографическую ситуацию, что на самом деле очень трагично, потому что пока "решение" демографической ситуации выглядит так: берем самых уязвимых, самых слабых, тех, кто попал в самую сложную ситуацию в жизни, и пытаемся их использовать как ресурс.
— Это интересная точка зрения. С одной стороны, эти спикеры от государства продвигают идеи, что женщина должна ориентироваться на семью, рожать детей. С другой, мы видим, что процентная ставка по ипотеке свыше 20%. Те же власти говорят, что сейчас наблюдается экономическая стагнация. В этих условиях продвижение таких нарративов — это непонимание реалий России?
— Мне кажется, все сразу. Это и непонимание реалий, потому что когда я смотрю на какие-то демографические решения, "демографические инновации", как тут недавно их назвала Валентина Матвиенко, когда я смотрю на то, как они проектируются, то там очень многое показывает, что нет базовых данных по поводу того, как работает демография. Например, они все пытаются снизить возраст рождения первого ребенка, но у демографов есть уже столько данных, которые показывают, что этот возраст не так уж и важен. Есть страны, где рождений больше на одну женщину, но при этом рождение ребенка происходит гораздо позже, чем в России, потому что экономическая ситуация позволяет женщинам иметь нескольких детей и, вообще, есть другие факторы, которые на это влияют.
С одной стороны, есть явное отсутствие экспертизы и компетентности и такое агрессивное нежелание прислушиваться к экспертам по этим вопросам, которые усиливались все предыдущие годы. С другой, мне кажется, есть цинизм, есть желание использовать какую-то риторику, которая всех возбуждает.
Опять же, гендер для всех очень важен, это важная часть нашего существования, нашей идентичности, нашей личности, нашего понимания себя. И, конечно, проще всего ухватиться за эту тему и как бы разворачивать ее, отвлекая, может быть, от каких-то других проблем или создавая впечатление, что в стране все нормально, наиболее традиционно, лучше, чем везде. Там везде гниль, везде все меняется, везде страшно, непонятно что будет, куда идет семья, а в России это все стабильно стоит на месте, что, кстати, неправда. Я думаю, тут сумма факторов.
Но, конечно, в целом экономическая ситуация в России такова, что абсолютное большинство семей должно иметь двух работающих родителей, чтобы выживать. Речь не о процветании, а о базовом выживании. Разделение "женщины на кухне" и "мужчины на фронте" или "на работе" просто не будет нормально работать.
— Особенно на фронте.
— Особенно на фронте, да. С одной стороны, они говорят про "традиционные ценности"; с другой — они изъяли из семей огромное количество мужчин, и женщины теперь выкручиваются сами. И мало того, что выкручиваются, они же еще и обязаны там, что называется, волонтерствовать. Они пытаются собирать какую-то амуницию для этих мужчин на фронте, потому что государство ее не обеспечивает. Они еще и пытаются как-то обеспечить то, чтобы этот мужчина выжил и когда-нибудь все-таки вернулся домой. Такая совершенно нетрадиционная ситуация, я бы сказала.
— Иногда эти антиженские инициативы озвучиваются устами женщин у власти. Например, сенатор Маргарита Павлова заявляла, что девушек надо перестать ориентировать на высшее образование и карьеру, якобы это мешает деторождению. Это очень похоже на то, как инициативы против коренных народов, их языков озвучивают представители этих народов во власти. Думаете, это совпадение?
— С одной стороны, конечно, выгодно поставить женщину, чтобы она как будто бы от лица всех женщин говорила, что нам действительно нужны "традиционные ценности". На нас их никто не налагает, никто нас не заставляет. Мы прямо сами хотим туда и стремимся — и не хотим учиться. Женщине-сенатору нужно было поучиться, чтобы попасть на эту позицию.
Но, с другой стороны, есть интересное исследование на этот счёт у Валерии Уманец (Valeria Umanets — доцент кафедры политологии в Университете Тулейн; до прихода в Тулейн она была постдокторантом в Питтсбургском университете — "Idel.Реалии"), это профессор университета Тулейна в США. Она прицельно исследует женщин во власти, причем не только в России — она занимается и другими странами бывшего Советского Союза. Она смотрит, какую риторику они продвигают, как вообще выглядит их карьера и так далее.
У нее есть интересная теория про то, что женщины во власти часто (надеюсь, сейчас не перевру) избирают такую очень консервативную или очень провластную позицию, потому что в системе, где женщине гораздо сложнее сделать карьеру в государственных органах, чем мужчине, самая дающая тебе какую-то власть, какую-то уверенность позиция — это присоединиться к сильному.
Но, в принципе, я думаю, это тоже происходит. Они таким образом пытаются защитить свое место, показать свою лояльность этими своими инициативами, высказываниями.
— Но это же приспособленчество?
— В каком-то смысле да. Я, честно говоря, думаю так.
— Вернувшиеся с войны в Украине российские военные за первые два с половиной года войны убили и покалечили более 460 человек, подсчитала"Вёрстка". Как мы знаем, еще до начала полномасштабного вторжения дискуссия об отдельном законе, который бы противодействовал семейно-бытовому насилию, была сведена к нулю. Как вы считаете, такой закон нужен?
— Такой закон, конечно, нужен, только я уже не питаю надежд, что его примут. В любом случае — не при этой власти. Потому что на самом деле та дискуссия, которая происходила прямо перед войной, была уже не первая на этот счет. Их было больше десятка, если я правильно помню.
Правозащитницы, феминистки более старшего поколения хорошо помнят, что каждые несколько лет возникал разговор о том, что нам нужен закон о "домашнем" насилии. Потом какие-то энтузиасты пытались этот закон продвинуть, собирали подписи, продвигали его в медиа, а потом все это по той или иной причине затухало, или эта дискуссия прерывалась намеренно.
Разрабатывалось много проектов этого закона. Это очень давняя борьба, но, я думаю, при этой власти нет шансов, что этот закон появится. Хотя он очень нужен.
— А зачем?
— Он очень нужен, потому что в российском правовом поле и в правозащитной и благотворительной практике очень мало инструментов, которые реально помогают защитить женщину от насилия.
Во-первых, был декриминализирован целый ряд преступлений, связанный с нанесением увечий, не опасных для жизни. Теперь за такие вещи очень сложно привлечь человека серьезно, а не просто, чтобы он отделался штрафом в 5 000 рублей из семейного бюджета.
Но дело не только в этом. Дело еще в том, что, например, за преследование у нас вообще нет отдельной статьи. Если бывший муж, например, начинает преследовать жену, сталкерит ее в интернете (сталкинг (от англ. stalking — преследование) — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей; сталкинг является формой домогательства и запугивания; как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней— "Idel.Реалии"), начинает поджидать ее у подъезда. Есть, конечно, статья за нарушение приватности личной жизни, которую практически не применяют в таких случаях, но в целом женщины в таких ситуациях абсолютно беспомощны.
У нас также нет "охранного ордера", который не позволил бы человеку, угрожающему своей бывшей жене, приближаться к ней. То есть у нас очень многие эти инструменты отсутствуют. У нас очень плохо обучены сотрудники полиции в части того, что вообще делать с такими случаями. Если приходит избитая жена, многие вообще не принимают заявления.
Чтобы все это заработало, чтобы была хорошая практика и у тех, кто работает с этими случаями, нужен единый закон, который бы все это прописывал, чтобы не собирать из разных законов и разбираться: это побои, нарушение частной жизни или и то и другое, а, может быть, это действия сексуального характера. Что это вообще? Что у нас тут происходит? Чтобы был отдельный разговор именно про эту проблему. Как, собственно, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и завещала — чтобы эти вопросы рассматривались отдельно.
— Я правильно понимаю, что, помимо прочего, отдельный закон позволит и создать нормальную статистику?
— Конечно. Но если это прописать там... Опять же, если эта категория будет нормально называться этим именем, то мы сможем понимать, как часто мы имеем с этим дело.
В целом у закона есть еще очень большая, как мне кажется, социальная публичная роль. Если принять отдельный закон, отдельную практику, отдельное правоприменение по этим вопросам, то это в том числе будет сигналом, что государство к этой проблеме относится серьезно, что общество к этой проблеме относится серьезно и что больше спускать это все, смотреть на это все сквозь пальцы никто не будет. Мне кажется, это сигналы для полиции, для судов, для обычных людей тоже. Еще и в этом смысле этот отдельный закон очень важен.
— До начала полномасштабного вторжения (а после это усугубилось) российское государство очень активно репрессировало разного рода активистов, в том числе фемактивисток. Сейчас осталось пространство для них?
— Кстати, до фемактивисток дошли довольно поздно. Мне кажется, долгое время их вообще не воспринимали всерьез. Это в том числе позволило феминистскому движению в 2010-е годы, может быть, более активно развиваться на фоне усиливавшегося авторитаризма, чем некоторым другим политическим движениям.
Но я хочу сказать, что даже несмотря на то, что репрессии все-таки последовали, и у нас есть дела Юлии Цветковой, есть множество феминисток, признанных "иноагентами", такие как Дарья Апахончич, Надя Толоконникова, Дарья Серенко, есть и менее известные активистки, которые тоже попали в поле зрения. Несмотря на все это, по моим данным (которые, конечно, сейчас очень отрывочные — все очень боятся об этом говорить, все ушли в подполье, в интернете очень мало информации, все гораздо менее публичны, чем были в 2010-е годы), феминистское движение в разных городах все еще активно развивается.
Причем речь не только о Москве и Санкт-Петербурге, как часто это показывают, как будто феминизм это про столицы — это вообще не так. Есть очень мощное региональное феминистское движение, туда приходят новые люди. В большей степени подпольно, чем раньше, эта тема развивается — и "домашнее" насилие, конечно, там играет очень большую роль, то есть все еще есть эта борьба. Я вижу, что многие активистки потеряли надежду как-то добиться от государства принятия закона — и [по этой причине] они больше включились в работу с кризисными центрами, собирают для них деньги, придумывают какие-то собственные инициативы по помощи людям в особо уязвимых ситуациях, женщинам в особо уязвимых ситуациях. То есть это такого рода инициативы.
— Вы упомянули, что фемактивистки оказались в конце списка репрессируемых по времени. Мне кажется, началось как раз с национальных активистов, когда "экстремистскими" признавали разные организации: например, "Башкорт", или татарскую организацию ВТОЦ — и активисты вынуждены были просто бежать из страны. Как вам кажется, как может измениться положение женщин в ближайшие годы в России, если война продолжится?
— Ничего хорошего происходить не будет. К сожалению, я вообще не вижу никаких источников для оптимизма. Демографическая ситуация, войной абсолютно подорванная, будет ухудшаться, продолжит расти репродуктивное давление на женщин. Все инициативы, связанные с ограничением доступа к абортам, вся пропаганда будет усиливаться. И я вижу, что власти не видят других методов и все еще верят, что они реально рабочие, что сейчас они сделают какую-то социальную рекламу или что-то скажут — и женщины побегут рожать детей. Все это будет усиливаться, пока нет поводов для оптимизма.
На разные меньшинства тоже будут продолжать давить; на ЛГБТ, все эти дела, связанные с ЛГБТ-пропагандой, с "экстремизмом", нет причин думать, что это не будет использоваться в том числе как один из механизмов репрессий, который сейчас развивается в России. В принципе, оптимизма мало. Хотя, конечно, я с большой надеждой слежу за развитием феминистского движения. Мне кажется, это все еще очень живая часть гражданского общества, в которое многие не верят, но вообще-то оно есть, просто мы его сейчас хуже видим.
Российские власти признали несуществующее "движение ЛГБТ" "экстремистским" больше года назад. В ночных клубах проходят рейды с ОМОНом, издателей задерживают за книги, где есть упоминание гомосексуальности. Сами книги снимают с продажи. Стриминговые сервисы вырезают любые "сомнительные" сцены из фильмов и сериалов. Правозащитники отмечают, что ЛГБТК+ люди чувствуют себя все более изолированными и все в более тяжелом положении.
— У нас есть традиционный вопрос: а что после Путина?
— Это очень интересный вопрос, на который мне очень сложно ответить, хотя из своей гендерной перспективы я могу сказать следующее. Война, которую они развернули, вся та сопутствующая ей очень патриархатная пропаганда, вся идеология, попытки как-то поправить демографическую ситуацию — это все, конечно, очень плохо. Но война сама по себе — это на самом деле вещь в плане влияния на гендерную систему очень двоякая, потому что любой войне, в принципе, свойственна поляризация, какая-то очень агрессивная риторика по поводу различий мужчин и женщин: мужчин-солдат и женщин в тылу, семьи и так далее.
Но, с другой стороны, война ведь подрывает любой порядок. Война — это ненормальная, экстремальная ситуация, которая разрушает социальные основы общества, его уклад. И в этом плане, когда Владимир Путин или кто-то из государственных спикеров говорят о войне за "традиционные ценности", войне против морального разложения, для меня это просто оксюморон; это какая-то шутка, потому что нельзя воевать за "традиционные ценности", это как будто пить за здоровье или что-нибудь в этом духе.
Потому что когда идет война, вся традиция, которая еще в каком-то виде осталась в обществе, очень легко разрушается. И это, кстати, очень хорошо знали, например, советские лидеры. Потому что во время Второй мировой войны они очень активно начали продвигать, принимать очень традиционалистские, удивительно традиционалистские для советского общества законы: типа раздельного обучения мальчиков и девочек в школах, введенного в 1943 году, или усложнение развода.
Многие другие нормы были приняты именно на фоне войны. Есть очень интересное исследование Олега Будницкого (советский и российский историк, специализирующийся на российской истории второй половины XIX-XX веков; доктор исторических наук, профессор, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и её последствий НИУ ВШЭ, член Европейской академии — "Idel.Реалии") про это, потому что норма взаимоотношений мужчин и женщин во время Великой Отечественной войны была абсолютно покорежена, была сметена этим огромным событием, огромной катастрофой. Я, честно говоря, думаю, что в России будет примерно так же. Мы не знаем, что случится на выходе, но будут какие-то очень радикальные, кардинальные общественные изменения.
Общество из этой войны выйдет совершенно другим. Мы видели очень много примеров, как то же самое происходило в современном мире, как современные войны полностью трансформировали общество. Грубо говоря, какая-нибудь вторая волна феминизма, студенческие движения, абсолютное изменение, совершенно новое поколение 1960-х годов во многих странах. Многие исследователи вам скажут, что это последствия Второй мировой войны, где общество до неузнаваемости было изменено этой войной во многих европейских странах.
Я думаю, нам стоит ждать таких же изменений. Можно по-разному на них смотреть, но традиционности точно не будет. Вот что я пытаюсь сказать. Стабильности не будет, традиционности не будет. Чтобы в России была традиционность, нужно было не начинать войну.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.